Разделы библиотеки
Слипенчук Виктор Трифонович
Зинзивер
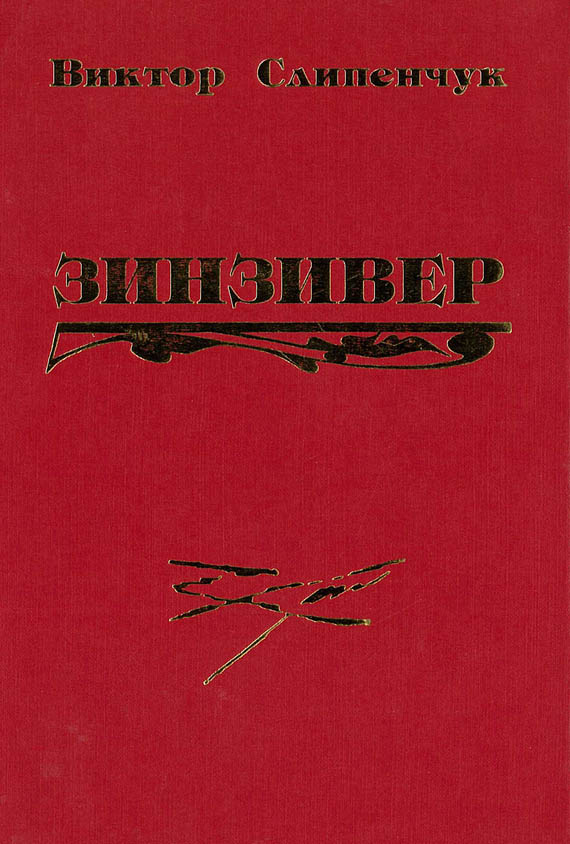
| Предыдущая страница | Следующая страница |
3 Страница
Розочка встретила великолепно. Положила пакеты со снедью на стол и позволила обнять себя. О Господи! В ответ каждая моя клеточка вскрикнула в восторге, нечленораздельно, но с такой истомленностью, словно мы не виделись тысячу лет. Я сжал ее в объятиях, прижался к ней и в какой-то сладостной муке уже членораздельно, с какими-то непонятными мне самому всхлипами пролепетал:
– Роз-зоч-ка!
– Ты что, плачешь? – строго, но все же больше удовлетворенно спросила она и откуда-то из-под меня протянула руку и потрогала мои глаза, чтобы удостовериться.
Не знаю, может, в самом деле всплакнул от избытка счастья, только сам я ничего не почувствовал, кроме нежной легкости ее пальчиков. А хотя бы и всплакнул, что тут такого?! Кажется, у Достоевского читал, что через великие страдания все к нам приходит, – вот и Розочка пришла. Впрочем, без Достоевского, по собственному опыту познал, что счастье – это как подарок душе уже за то, что она, душа, есть…
У Розочки душа удивительная, удивительная по понятливости – она всегда понимала меня лучше, чем я сам себя самого. А потому опять, как-то ловко сцепив руки замком, поднырнула под меня и, отстраняясь, уперлась ими в мою грудь с такой силой, словно коленом.
– Какая я тебе Роз-зоч-ка?! – сердясь, передразнила она и потребовала, чтобы я сейчас же отпустил ее.
Я отпустил, конечно, но мысленно все еще как бы прижимал к себе. Так бывает с песней – тронет душу, уже давно отзвучит, а отзвук все еще теплится в сердце. Так и здесь – отпустил, стою переполненный, в каком-то гипнотическом состоянии, даже боязно пошевелиться. И тут она огорошила как бы сковородкой:
– Что, товарищ Слезкин, маненько забылись, дали волю рукам?
То есть не огорошила, она ведь еще во дворике нарсуда предупредила, что отныне она для меня никакая не Розочка, а Розария Федоровна. И я для нее тоже не бог весть кто, а физическое лицо, посторонняя личность. В лучшем случае – товарищ Слезкин. Так что никакой «сковородки» с ее стороны не было, просто все сказанное ею в этот момент было в таком ужасном диссонансе с моими чувствами, что я как стоял, так и продолжал стоять, но уже без чувств.
Оправляясь и охорашиваясь от объятий, Розочка несколько раз внимательно посмотрела на меня, потом хохотнула, как умеет только она, прикрыв рот рукой.
– Повторяю: что, товарищ Слезкин, маненько забылись, дали волю рукам?
И засмеялась так весело, так заразительно, что и я наконец-то пришел в себя, тоже засмеялся, радуясь, что ей весело.
Мы вместе готовили ужин, баловались, бегали друг за другом на кухню, путали чужие сковородки со своей. И было даже интересно называть ее Розарией Федоровной и откликаться на Физическое Лицо или Постороннюю Личность, словно на некий внезапно пожалованный прокурорский чин или воинское звание.
В общем, постепенно я привык к нововведению. Единственное неудобство от ее затеи испытывал в постели. (Розочка снова разрешила спать с нею, но пригрозила: если хоть раз товарищ Слезкин забудется и неправильно назовет ее, то пусть пеняет на себя.) Даже во время самых интимных излияний, когда вот-вот потеряешь рассудок, она предупредительно, тычками в живот, извещала меня, чтобы держал себя в руках, не забывался и не распускал слюни. Как-то я сознательно пошел на хитрость. Зная, что после интимных излияний ей, так же как и мне, особенно приятно полежать просто так, созерцательно, без всяких мыслей, я пододвинулся к ней (она лежала на спине отдохновенно, в некотором забытьи) и с неподдельной нежностью, свойственной мне в такие минуты, прошептал: цветочек мой, Розочка! Она как лежала, так и продолжала лежать, только голову, не приподнимая даже от подушки, резко повернула ко мне и голосом ровным, холодным и внятным сказала:
– Что, Посторонняя Личность?
Даже сейчас, спустя два года, мне иногда слышится этот леденящий голос. Больше я не испытывал судьбу. В постели всегда молчал, а если случался разговор, то силой воображения я подменял Розочку на какую-нибудь отвлеченную Розарию Федоровну, для которой иначе как товарищем Слезкиным я и не существовал.
Как говорится, и здесь притерпелось. Тем более что в своих мыслях я был по-прежнему волен и по-прежнему Розочка оставалась для меня Розочкой, моим спасительным лучезарным цветочком. Кстати, как раз в это время она надоумила, каким гениально простым способом можно в кратчайшие сроки возродить наше захиревшее литобъединение. То есть пополнить его ряды, прямо говоря, новыми кредиторами.
. . . .
По ее наущению в присутствии старосты литкружка (по возрасту и бородатости он ходил в Львах Николаевичах) и его друга и помощника, который смело признался, что никогда ничего не писал, но по известной тарифной сетке честно отдал деньги, чтобы числиться у меня Николаем Алексеевичем Некрасовым, я прочел зажигательную речь, достойную тех, какие самому доводилось слушать в Литинституте от весьма и весьма известных мэтров отечественной литературы. Суть сводилась к тому, что написать одно хорошее произведение: рассказ, пьесу, повесть, роман, не говоря уже о стихотворении, – сможет любой, если захочет, главное – захотеть. А потому, объявил я, срочно приступаю к составлению коллективного сборника местных авторов. Всем членам литературного объединения гарантировал особые преимущества в публикации при условии, что каждый из присутствующих приведет на очередное заседание не менее трех новых членов.
У слушателей (их было двое: староста и его друг) возникло два неожиданных для меня вопроса. Первый касался особых преимуществ, его задал староста. Он сказал буквально следующее:
– В течение которого времени будет действовать введенная льгота? – И пояснил: – Можеть, из вновь прибывших найдутся такие, которые захотят тожеть привесть каких-нибудь своих трех товарищей, а те – своих.
Я поблагодарил за вопрос, он показался мне заслуживающим благодарности. И, перейдя на лексику старосты, объявил как о давно решенном, что введенная льгота будет действовать в течение месяца (заседание проходило в двадцатых числах июля).
Второй вопрос задал друг старосты. Он полюбопытствовал:
– В каком городе и за чей счет будет печататься коллективная книга или же она пройдет как госзаказ по печатному учреждению?
При всем косноязычии друга нельзя было не признать, что вопрос задан по существу, как говорится, не в бровь, а в глаз.
Мелькнула шальная мысль: а вдруг он в самом деле Николай Алексеевич, редактор «Современника», а затем «Отечественных записок»?! Тогда вполне логично, что и староста литкружка никакой не староста, а граф Лев Николаевич Толстой!..
Я с усилием отбросил шальную мысль и трясущимися руками стал шарить по карманам в поисках носового платка, который был нужен только для того, чтобы выиграть время для более-менее вразумительного ответа. Однако ни платка, ни ответа не находилось. Я стал затягивать время, умышленно вынимать из карманов всякие предметы и класть их на стол, за которым как раз и сидели мои умудренные жизнью классики.
Предметы были обычные: ключ от комнаты, коробка спичек, записная книжка, вчетверо сложенный лист стандартной бумаги с расписанием пригородных поездов и, наконец, диплом об окончании единственного в мире Литинститута, в котором черным по белому было написано, что Слезкин Дмитрий Юрьевич – литературный работник.
В свое оправдание скажу сразу, что диплом никогда не был для меня обычным предметом, я его постоянно носил с собою лишь потому, что в начале моей литературной деятельности в городе Н… меня никто не знал и меняющиеся вахтеры в ДВГ (Доме всех газет) по вечерам не давали мне ключи от родной редакции, в которой проходили наши литературные заседания. Диплом служил своеобразным удостоверением на право получения ключей, и я привык, что он всегда при мне. То есть я не рассчитывал, что дипломом отвечу на все так красноречиво, что на ближайшее будущее вообще закрою все вопросы и ответы.
Между тем мои умудренные жизнью классики с нескрываемым интересом разглядывали предметы, которые я извлекал. В их интересе угадывалось свойственное писателям и детям какое-то гипертрофированное любопытство. Чувствовалось, что каждому из них стоит больших усилий удерживать себя, чтобы не потрогать положенные на стол предметы. Наконец, когда на кучу-малу лег диплом, староста, словно самый настоящий граф, с величественной медлительностью приставил свою палку к соседнему стулу и, как бы прикрывшись от меня бровями, решительно взял диплом.
Уж не знаю, что тут виною – кустистость бровей, бородатость (или величественная отстраненность старосты: и от меня, и от своего совершенно лысого друга с удлиненной бородкой клинышком), – но мне опять стало казаться, что я нахожусь в обществе самых настоящих, всамделишных писателей, для которых не существует ни меня, ни их вопросов ко мне, а только мой диплом, явно их встревоживший. Я, как некая трансцендентная вещь в себе, присутствуя, отсутствовал и в то же время, отсутствуя, присутствовал. Мне как-то было не по себе оттого, что Лев Николаевич и Николай Алексеевич, несмотря на свои огромные литературные заслуги, не имеют такого, как у меня, диплома. Более того, в их красноречивых взглядах в мою сторону отчетливо читалось, что они завидуют мне и даже не пытаются скрыть своей зависти.
Это было прямо-таки умопомрачение или наваждение, а скорее и то и другое. Во всяком случае, я стал приходить в себя, только когда Лев Николаевич разгневанно стукнул батожком об пол и, стараясь снискать мое одобрение, начал стыдить и даже оскорблять Николая Алексеевича:
– Эх ты, залыга-сквалыга, за чей счет да в каком учреждении?! Да уж не за твой и не за счет рулетки твоих спонсеров… Москва напечатает, по госзаказу!
Он опять сердито стукнул батожком в сторону редактора знаменитого журнала и, внезапно смягчаясь, повернулся ко мне.
– Конфидицное письмецо от литературного работника – оно тожеть… Правильно я грю? – ласково спросил он, вставая.
Все еще зачарованный вниманием гения, ищущего у меня поддержки, я согласно кивнул.
Однако при всем уважении к великому писателю и даже преклонении перед ним мое воображение отказывалось представить, чтобы Лев Николаевич мог позволить себе (мягко говоря) подобную вольность в отношениях с редактором «Современника» (пусть даже в угоду мне, обладателю диплома, которому он искренне позавидовал). Тем более что редактором был не кто иной, как сам Николай Алексеевич, с которым он всегда был дружен и стихами которого не раз восхищался.
Чтобы окончательно рассеять морок окутавшего меня наваждения, я потер виски и тут же через настежь раскрытые двери редакции услышал удаляющееся постукивание палки и отчетливую перебранку моих мнимых классиков:
– Ох, напрасно, напрасно о женской доле смолчал!
– Дак она такая жеть, как и у мужиков.
– Не скажи – хлестче!
Некоторое время, точно маятник, палка отстукивала в шаркающей тишине. Потом вновь тот же тонкий, оправдывающийся голос:
– А насчет печати коллективной книги – я ить токмо по направлению мысли полюбопытствовал.
– Любопытству тожеть есть предел, – отрезал не столько низкий, сколько широкий по габаритам бас.
Опять шаркающая тишина и итог:
– У нас одно направление – привесть каждому по три новых члена.
Недовольный стук палкой усилился, но отчетливость голосов как-то враз стушевалась – наверное, свернули на лестничную площадку. Последнее, что услышал:
– Об остальном – не наше дело, пусть литературный работник покумекает…
Не знаю, сколько просидел перед своими карманными предметами. Помню, что поверх них, словно некий приветственный адрес в знак, безусловно, героических заслуг в литературе, лежал «вверх ногами» мой по-особому ненавистный в ту минуту диплом. Конечно, он меня выручил, спас, но где и какой ценою?! Да, я всегда гордился им, он, так сказать, вещественно подтверждал мою принадлежность к писателям, инженерам человеческих душ, численность которых даже в такой огромной стране, как наша, никогда не превышала численности Героев Советского Союза.
И вот я – пал, пал в собственных глазах с помощью диплома, которым всегда гордился. Я сидел опустошенный, чувствуя себя последним негодяем. О, если бы я мог чувствовать себя хотя бы спившимся, но Героем СССР, которому благодаря званию все же позволено без очереди сдавать пустые бутылки! Увы, я был героем другого порядка: молодым, неспившимся и, что еще хуже, действительно что-то понимающим в литературе. Мне не было оправданий, я – пал, пал, пал!!!
Вспомнилось, как любил, словно бы невзначай, щегольнуть перед своими слушателями соотношением численности писателей и Героев. Да-да, изощренно-тонким намеком я всегда давал понять, что раз писателей меньше, то они выше. Потом, чтобы продемонстрировать во всей полноте писательское великодушие и уважение к Героям, спускался с высот и напрямую объявлял, что литература – это поле боя, на котором ты, ничтоже сумняшеся, либо падешь, как бесславная жертва, либо, совершив подвиг, удостоишься после смерти признания и памятника.
Здесь, как правило, делал внушительную паузу, дожидаясь вопроса: «Почему обязательно после смерти?» И никогда не ошибался – вопрос задавался неукоснительно. Я опять взмывал: вперивался в потолок, непременно простирая руку вверх, вослед сардоническому взгляду, и, совсем как наш руководитель семинара поэзии в Литинституте (не буду оглашать его имени, чтобы не подумали, что хвастаюсь), не отвечал, а ответствовал, как бы перед самим Богом, – уж так испокон повелось на Руси, чтобы тебя признали, надо прежде обязательно помереть.
Не скрою, реакция слушателей чаще всего была гробовой, то есть ни звука, ни шороха. А лишь мои шаги взад-вперед. Остановка. Я сам иногда в потрясении застывал, проникаясь несправедливостью запоздалого признания.
Что делать – Русский Бог более всех знает меру таланта, отпущенного каждому из нас, а потому и сурово взыскует. Уже только на нашей памяти так случилось с Шукшиным, Высоцким, а теперь мы… Я никогда не говорил – «туда же». Я говорил: «А теперь мы занимаемся литературой». Но в глазах моих великовозрастных товарищей по перу сквозил неподдельный страх, и он лучше всяких слов глаголил: «Да-да – туда же!..»
Я был тщеславен и беспощаден, но избегал низости. И вот – финал. Финиш. Я, как никто другой, чувствовал в ту минуту всю непререкаемую мудрость пословицы: сколько веревочке ни виться, а конец будет. Буду я зело та-ак ославлен своими «долговыми поборами», что пасть бесславной жертвой сейчас, сию секунду, было бы для меня великим счастьем и даже спасением.
Я ухватился за край стола – рои мыслей, чувств словно сорвались со смягчающих пружин.
Минутная слабость, надо пересилить… И тут, словно в насмешку над сонмом чувств, приводя мои мысли в какой-то новый, необычный порядок, в темя размеренно постучали: «Пусть по-ку-ме-ка-ет, пусть…» Да-да, я узнал стук батожка. Он разрастался, множился, пока, содрогаясь, я не выдавил ему в ответ: «Поку-мекам». С кем согласился, что пообещал – непонятно! Но в голове прояснилось и как бы отпечаталось – прежде всего следует разобраться с дипломом литературного работника (главным виновником моего падения), а потом уже – и с самим работником. Да-да, я решил порвать, растоптать, уничтожить диплом. И – покончить с собой, как говорится, наложить на себя руки.
Распираемый ненавистью, в нетерпении двумя руками схватил злополучные корочки, словно они могли ускользнуть, и вдруг под руками отчетливо звякнул ключ. Ключ от общежития, от нашей с Розочкой комнаты. Я замер – ключ, ключик, родничок! Животворная радостная струя, наполняя меня, смывала всю горечь, позор, страхи. Воистину ключом – да по голове! Воистину клин вышибается клином!
Спрятав диплом во внутренний карман пиджака, в невольном порыве прижал его рукой к сердцу и засмеялся, представляя, как весело будет Розочке оттого, что выполнил ее поручение, точнее, что выполнилось оно само с помощью замечательного диплома.
Я летел домой как на крыльях.
О Господи, заклинаю всех-всех горемык и горемычек: никогда не отворачивайтесь от жизни, не падайте духом, не поддавайтесь настроению – жизнь прекрасна!
Уже в автобусе, вспоминая свое отчаяние, внезапно хихикнул, чем развеселил девчонок, очевидно абитуриенток «культпросвета», гурьбой стоявших на задней площадке. Они поначалу смеялись сдержанно, прячась друг за дружку. Зато, выходя возле «Палас-отеля», так дали волю чувствам, что и я рассмеялся и, гримасничая, как обезьяна, помахал им в окно. Во мне окрепла уверенность, что Розочка ждет меня не дождется, чтобы обрадовать какими-то своими удивительными подарками.
Получить полную версию книги можно по ссылке - Здесь
| Предыдущая страница | Следующая страница |
|
