Разделы библиотеки
Немец Ян
Возможности любовного романа
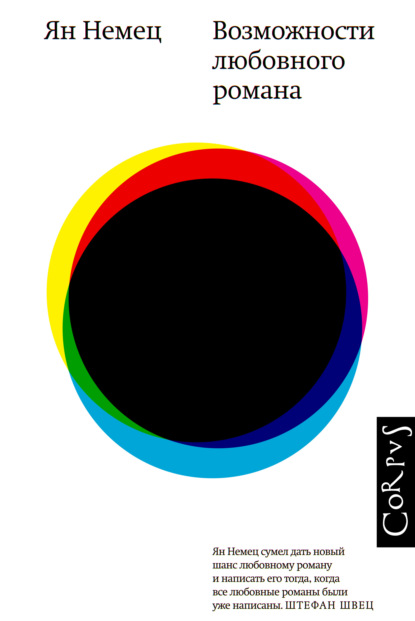
| Предыдущая страница | Следующая страница |
примечание автора
Мне все кажется, что писать в наше время любовный роман – это как шить лоскутное одеяло: кройка и швы мои, но насчет материала не уверен, хотя и испытал его на себе. Я чувствую, как с каждой фразой все больше сомневаюсь, не соткана ли моя жизнь по лекалам других любовных романов или – того хуже – песен и реклам, фильмов и сериалов, по лекалам ваших статусов в Фейсбуке. Почему столько глав этой книги позаимствовало свои названия из других текстов? И все-таки я пустился в эту авантюру, потому что в бесконечном споре между самовыражением и самокритикой последнее слово должно оставаться за первым, ведь даже последняя гексаграмма китайской “Книги перемен” – это “еще не конец”. Писать любовный роман в наши дни – значит клясться в достоверности, до боли скрестив пальцы, или спасать ребенка из ванны с водой, которую кто-то выплескивает. Можно сколько угодно сетовать, что правда, любовь и красота дискредитированы, извращены, что их пути разошлись в разные стороны света. Кризис легитимности позднего капитализма настолько глубок, что интеллектуалки уже отказываются от макияжа. Но Симона Вейль говорит, что красота – не что иное, как обостренное чувство реальности, а Уильям Берроуз в своей последней дневниковой записи утверждает, что любовь – наиболее естественное лекарство от боли. Именно этим изречениям святых, находящихся на пороге смерти, я и следую – пишу о том, что в силу разных причин мне кажется реальным, и мне не остается ничего другого, кроме как верить, что это не наивность новичка, а та наивность, к которой возвращаешься, когда любые аргументы и любая критика себя исчерпывают. Даже если ты отрекаешься от всего, от чего только можно отречься, что-то да остается. Никто не способен разделить самого себя без остатка, да и пригодиться этот остаток может разве что Армии спасения, ветру или грифам.
суп с буковками
– Привет, Горящая Береза, – поприветствовал я Нину с порога.
– Горящая Береза?
– Ты забыла свое индейское имя?
– Первый раз его слышу. Привет!
– Серьезно? Неужели я так ни разу не называл тебя вслух? В общем, если бы ты была деревом, то скорее всего березой. Знаешь, у них на стволах иногда бывают такие подведенные глаза?
– Может, ты уже снимешь куртку?
– А я кто?
– Какое дерево? – уточнила ты и ненадолго задумалась. – Наверное, каштан.
Была пятница, и я впервые приехал к Нине в Оломоуц на выходные. Она жила в большом старом доме, на углу Жеротинской площади. Напротив – теологический факультет, наискосок через площадь – костел Святого Михаила. Давным-давно на этом месте стоял небольшой замок, поэтому звонки студенческих квартир были подписаны “ПРИДВОРНЫЕ ДАМЫ” и “ПРИДВОРНЫЕ КАВАЛЕРЫ”. Дом, где обитала Нина, принадлежал церкви, так что юноши и девушки жили здесь отдельно, лишь изредка навещая друг друга: студенты, заскучав по домашней еде, набирались мужества и шли к более запасливым девушкам, чтобы одолжить какую-нибудь приправу; или, наоборот, девушки просили молоток и гвоздик, чтобы повесить над кроватью репродукцию Моне, вырезанную из старого настенного календаря, – ну вот, сразу стало уютнее.
В этом доме Нина занимала угловую комнату на первом этаже, в которую можно было попасть либо через ванную, либо через комнату, где жили другие две студентки, в том числе и наша старая знакомая Итка. Впрочем, Итка успела уже уехать на выходные к родителям, как и большинство других обитательниц этой просторной квартиры с высокими потолками, оставивших после себя разбросанную одежду, книги с библиотечными штрих-кодами на корешках и методички. На тумбочках валялись бусы, браслеты и четки, на подоконниках пытались выжить цветы, над кроватями жались друг к дружке фотографии, изображения святых, паломнические открытки и картинки с видами гор. Я заглядывал в чужие комнаты с любопытством антрополога, обнаружившего неизвестное племя студенток-католичек.
В ванной кто-то возился, поэтому мы прошли через комнату Итки и наконец оказались у Нины. Ее жилище выглядело явно временным. На подоконнике в бутылке от вина красовалась гербера, на батарее сушилось нижнее белье, окно вместо штор было занавешено куском ткани. “От прохожих”, – прокомментировала Нина. В комнате стояли старенький стол, шкаф, две кровати и “Билли”, в смысле – дешевый стеллаж из “ИКЕИ”, который служил Нине одновременно комодом и шкатулкой для украшений. Кровати располагались вдоль разных стен, словно сторонясь друг друга. Вторая принадлежала какой-то словачке, студентке с отделения искусствоведения, о которой я был уже наслышан. В середине недели соседка сообщила Нине, что уедет на выходные, – но кто же тогда заперся в ванной?
– Вечно она копается. Ей надо было не на искусствоведа, а на косметолога пойти, – сказала Нина с ехидцей в голосе, показав на акварельный рисунок, висящий над кроватью: синее небо, небрежно перетекающее во что-то похожее на лавандовое поле.
Возле кровати словачки обретались и другие вторичные половые признаки Прованса: цветочный ящичек из белых реек, вид Арля и плетеная корзинка с розовыми и лиловыми свечками.
– А кто тебе герберу подарил? – поинтересовался я.
– Сама купила, – ответила Нина. – Бутылку, в которой она стоит, если хочешь знать, я выпила тоже сама, когда мне было паршиво.
– Ты серьезно?
– Ну ясное дело, – засмеялась Нина, видимо, позабавленная моим легковерием.
Покинув наконец ванную, словачка протянула мне руку так, будто здоровалась с пришельцем на заброшенной космической станции.
Мы с Ниной решили, что не станем мешать ей собирать вещи, и отправились погулять по центру. Оломоуц я знал как турист: еще в детстве я приезжал сюда с дедушкой, потому что непременно должен был увидеть места, где давным-давно, почти тысячу лет назад, находилась единственная во всей округе резиденция епископов, а в не таком уже далеком прошлом – советская военная база. Я был рад, что в придачу к Нине мне достались декорации этого полусонного города, который в будни изо всех сил старался соответствовать журналистскому клише и выглядеть, как ганацкая столица, но на выходных больше походил на ганацкую гробницу. В будни здесь возникал волнующий контрапункт между бесконечными толпами студенток филфака и педфака и католиками в сутанах и монашеских рясах, но по субботам и воскресеньям город словно вымирал. “Полная глухомань”, – говорила Нина.
Мы спустились в парк по лестнице внутри крепостной стены – скорее даже не лестнице, а зловонному проходу с разбитыми ступеньками, стены которого были в несколько слоев покрыты граффити. Лучше згореть, чем угаснуть, – робким фломастером процитировал кто-то Курта Кобейна, но какая-то прилежная студентка богемистики безжалостно прокляла это несчастное “з” корректорским значком и надписала сверху “с”, так что экзистенциальный возглас превратился в упражнение на правописание, а подающий надежды альтернативщик – в безграмотного балбеса. Помимо граффити, стены были усыпаны предложениями разнообразных эротических услуг с номерами телефонов, и у меня в который раз за день мелькнул в голове вопрос, переспим ли мы сегодня с Ниной. Этого до сих пор так и не случилось.
Для меня секс никогда не был чем-то само собой разумеющимся, в моей кабине управления не была подключена функция автопилота. Как будущий социолог я провел глубинные интервью со своими сокурсниками по Академии музыкальных и сценических искусств и факультету социологии и в итоге выяснил, что существует два типа мужчин. Первых притягивают любые женщины – просто потому, что это женщины и у каждой между ног таится одно и то же. И именно поэтому мужчины второго типа выбирают женщину, исходя из того, чем она отличается от остальных. Я явно принадлежал ко второму типу, всякий раз выбирая слишком тщательно. Одна девушка как-то сказала мне, что у меня в штанах привередливый нос. “Страшно подумать, что у меня тогда на лице”, – ответил я, чтобы хоть немного спасти ситуацию. Да что уж там говорить, новая мужественность – концепт, конечно, симпатичный, но он не всегда избавляет от чувства вины тех, кто не трахает сразу все, что движется.
Мы прошли через парк, где Нина показала мне свои любимые места и привычный маршрут пробежек. Голод заставил нас вернуться в центр. Мы купили пиццу и вина, отправились на уютную площадь рядом с домом Нины и уселись в тени лип на ступени у подножья статуи святого Флориана.
– Схожу-ка я за бокалами, – сообразила Нина. – Тарелки принести?
– Из коробки поедим.
Она вернулась с двумя пузатыми бокалами, и в каждый из них я налил из пластиковой бутылки густого кагора, который в то время почему-то полюбил. Мы с Ниной чокнулись.
– Компотик, – поморщилась она.
– Ты лучше пиццу ешь, пока она не остыла.
– Мне кажется, я твоим кагором наемся. В следующий раз вино выбираю я.
– Ну не можешь же ты выбирать и вино, и пиццу, – возразил я, отделяя первый кусочек.
– Почему? Ведь раньше-то могла.
– Вот как? Значит, раньше могла? – весело переспросил я. – В таком же духе Шопенгауэр рассуждал о женитьбе, мол, ему непонятно, зачем удваивать свои обязанности и делиться правами.
– Ну, что-то в этом есть.
– Тогда тебе нужно знать продолжение.
– Какое?
– Что самым близким существом для него был пудель.
– Пуделей я не очень, это правда. Но все-таки лучше пудель, чем муж, – подытожила Нина. – Ладно, в следующий раз я выбираю вино, а ты пиццу. Пойдет?
– В любом случае пиццу ты сегодня выбрала правильную.
– Значит, в следующий раз ты можешь выбрать такую же! – воскликнула Нина победоносно, пытаясь оторвать кусочек, за которым тянулись ниточки сыра. – То есть ты и Шопенгауэра читал? Кажется, ты еще забористей, чем это вино.
– Ну, “Мир как волю и представление” вряд ли стоит брать с собой на море. Но у Шопенгауэра есть симпатичная книга о писательстве[33] – вот ее я люблю.
– Шопенгауэр меня не особо интересует. А у тебя как с писательством?
– В каком смысле?
– Ну, например, когда ты начал писать? Не знаю… расскажи мне наконец что-нибудь о себе.
Когда я начал писать? Мама раньше работала секретаршей в финансовом отделе Высшей сельскохозяйственной школы, и у нее в кабинете стояла электронная печатная машинка, такой промежуточный вариант между пишущей машинкой и текстовым редактором: каждая строка сначала отображалась на дисплее, чтобы можно было исправить ошибки, а потом быстро отпечатывалась на бумаге. Мне тогда было лет пять, и меня так и тянуло к этому устройству – наверное потому, что папа дома часами просиживал за чем-то похожим. В общем, когда мама брала меня с собой на работу, я забирался с коленями на стул и бил по клавишам до тех пор, пока не получалась густо исписанная страница. Правда, в то время я путал слова “бульон” и “фельетон” и говорил всем, что сейчас у меня будет бульон. Когда из печатной машинки выскакивал лист бумаги, я бежал в соседний кабинет, где один дяденька рисовал мне внизу на листочке глубокую тарелку. От нее еще шел пар. “Ну как, сварил свой супчик? А что у тебя в нем?” – спрашивала мама. И я с гордостью сообщал: “Картошка! Морковка! Буковки!”
– Кстати, у тебя все губы красные от вина. Мне облизать их, или ты сам?
А потом, в третьем классе, я написал сочинение, и учитель собственноручно снял с него машинописные копии, чтобы раздать их всем моим одноклассникам. Это было чистой воды подражание “Дюне” Фрэнка Герберта, которой я тогда зачитывался. У меня действие происходило на какой-то пустынной планете, где летали орнитоптеры, ну и все в таком духе. Научной фантастикой я увлекался лет с девяти и до тринадцати, не понимая, о чем еще можно писать в книжках, если не о чем-то сверхъестественном. У меня в голове не укладывалось, как автор может описывать обычную повседневность. Но однажды я взял у папы книжку Ирвина Шоу и прочел рассказ о парне, который влюбился в продавщицу книжного магазина. Или наоборот – точно не помню. В любом случае больше я к научной фантастике не прикасался, меня как отрубило. И я уже наоборот не мог понять, зачем читать об инопланетянах, если вокруг живые люди.
– Я подмерзаю, – сообщила Нина. – Знаешь, что: тут бар за углом, давай там чего-нибудь выпьем.
Мы выбросили коробку из-под пиццы в синий контейнер; собственно, это был не столько контейнер для бумаги, сколько для таких вот коробок – студенческий город, что поделаешь. Мы отнесли бокалы к Нине на кухню и, выйдя на улицу через черный ход, сразу уткнулись в красную дверь бара “Ось”, увенчанную неоновой рекламой рома “Гавана Клаб”.
– Ты можешь спускаться сюда прямо в пижаме, – заметил я.
– В ночной рубашке. Не бойся, ту свою дурацкую пижаму я уже выбросила.
Мы сошли по ступенькам и оказались в каменном полуподвале с бетонным полом. За высокими барными столиками сидело несколько компаний, из динамиков звучала карибская музыка, а в дальнем зале не обошлось и без пальмы на стене. В меню был один сплошной секс: “Секс с капитаном” на основе рома со специями, “Дикий секс”, неизбежный “Секс на пляже”, явно летний “Секс у стены и поцелуи”, вполне сносный “Оргазм”, а вот шот “Сперма” с ванильным ликером, ирландским ликером “Кэроланс” и гренадином нам показался уже перебором. Мы решили, что после крепленого вина стоит быть поаккуратнее и не экспериментировать с такими ингредиентами, как яичный белок, клубничный джем или греческий йогурт. В итоге мы остановились на классике: Нина заказала “Маргариту”, а я – “Негрони”.
– Ты читала когда-нибудь фэнтези или научную фантастику?
– Я? Я не могла оторваться от “Пеппи Длинныйчулок”, в детстве это был мой любимый персонаж. Знаешь, она была такая сильная, ловкая, легко обставляла взрослых, которые пытались ее опекать, и жила вместе с лошадью и обезьяной. А когда я выросла из “Пеппи”, то сразу же перескочила на “Дневник” Юрачека[34]. Его хватило почти на год, потом я уже могла читать что угодно.
– А как ты пришла к Юрачеку?
– У нас в киноклубе показывали “Кариатиду”, вот я и заинтересовалась. Но вообще-то сегодня твоя очередь рассказывать, так что больше никаких вопросов. И давай-ка вслух, а то ты все время куда-то уплываешь. Так когда ты начал писать по-настоящему? Я не слишком на тебя наседаю?
Нина могла одной-единственной фразой, жестом или взглядом возвести нужные ей декорации, умела отстранить ситуацию или, наоборот, придать ей остроты. Сейчас ей удалось и то, и другое. Нина выглядела, как усердная блогерша, которой не терпится опубликовать пост о встрече с писателем.
– В старших классах нам дали новую учительницу чешского, – начал я издалека. – Не знаю, как она оказалась в нашей гимназии, но, в общем, она стала вести чешский и французский и еще организовала драмкружок. Короче говоря, творческая натура, вокруг которой быстро сплотились те, кто увлекался театром и литературой и у кого внутри что-то такое бродило. Примерно тогда же к нам присоединился Петр. Он проходил альтернативную военную службу, а вообще был юристом, причем, так сказать, старой закалки: писал стихи, интересовался философией. Однажды наш драмкружок репетировал декламацию стихов Превера – вот тогда-то мы все впервые и собрались. Все – в смысле вся наша разношерстная компания из пяти человек: учительница чешского, альтернативщик, один старшеклассник и еще две гимназистки помладше, причем обеих звали Ева, для большей путаницы. Хотя на самом деле никто их не путал: у одной волосы были рыжие, а у другой медовые. Они сидели за одной партой, были лучшими подругами, а еще самыми красивыми девушками во всей гимназии – по крайней мере, я так думал. Ты знаешь Превера?
– Нет, не знаю.
– До сих пор помню, как две эти пятнадцатилетние вертихвостки читали наизусть “Для тебя, любимая”, одна в черной футболке, другая в белой, и у каждой уже обозначилась грудь – за ее ростом мы давно и с любопытством следили. Своими нежными ангельскими голосками обе Евы декламировали: Я пошел на базар, где птиц продают, / И птиц я купил / Для тебя, / Любимая. // Я пошел на базар, где цветы продают, / И цветы я купил / Для тебя, / Любимая. // Я пошел на базар, где железный лом продают, / И цепи купил я, / Тяжелые цепи / Для тебя, / Любимая. // А потом я пошел на базар, где рабынь продают, / И тебя я искал, / Но тебя не нашел я, / Моя любимая. “Для тебя, любимая” они каждый раз произносили хором.
– Ах! – воскликнула Нина, захлопав ресницами, как моргающая кукла.
– У меня голова шла кругом. В тот вечер я, считай, влюбился в светлую Еву, а Петр – в рыжую, а еще мы оба сдружились с Миркой, той самой учительницей чешского. Мы все жили тогда как в бреду. Между уроками Петр обменивался с рыжей Евой записными книжками – чем-то вроде их общего дневника – и иногда провожал до дома Мирку. А я, в свою очередь, всячески обхаживал светленькую Еву и при этом переписывался с Миркой. Мы с Евой встречались в парке Лужанки, под магнолией, которую потом срубили, но тогда она каждую весну взрывалась бело-розовыми цветами. Я был этаким всезнайкой, все мне давалось ужасно легко, и я как будто возвышался над происходящим. Ева открыла мне новый мир: она-то над происходящим никогда не возвышалась, наоборот, она была внутри происходящего, в самом его центре… ну, или мне так казалось. Однажды в школе проходила дискуссия о войне в Югославии, и все старшеклассники строили из себя специалистов по внешней политике. Ева единственная сказала, до чего все это страшно, бессмысленно и бесчеловечно, причем сказала так убедительно, что даже молодой учитель обществознания вынужден был откашляться, прежде чем задать очередной бессмысленный вопрос. Благодаря Еве я впервые осознал, что жизнь больше наших представлений о ней, впервые увидел нечто вроде центра мандалы. Ева выделялась среди нас, она поступила в Прагу в театралку, а потом еще успела выучиться на психолога. В гимназии мы впервые обзавелись мобильниками и посылали друг другу тонны сообщений, которые потом старательно переписывали на бумажку…
– Серьезно? – спросила Нина, закашлявшись: она как раз потягивала “Маргариту” через трубочку.
– Естественно. Памяти в мобильнике не хватало, а эти сообщения были для нас дороже всего. С Евой я обменивался короткими поэтичными посланиями, а с Миркой – пространными письмами, в которых мы с ней анализировали происходящее. С Петром же мы ходили в чайную и делились друг с другом мужским видением ситуации. Так мы и жили в общем коммуникативном безумии, но рассказываю я все это потому, что именно тогда я стал писать уже систематически. Ты ведь об этом спрашивала? Мне сложно ответить, не вдаваясь в подробности, – хотя бы потому, что импульсы к сочинительству всегда внешние. Мои импульсы были связаны с конкретными людьми. Я до поздней ночи сидел над письмами к Мирке, одновременно прокручивая в голове сообщения для Евы, а с Петром мы обменивались стихами собственного сочинения, которые потом читали вместе на разных региональных конкурсах вроде “Мельницкого Пегаса” или “Сейфертовских Кралуп”[35]. Для нас, юнцов, это был незабываемый опыт, но, главное, мы открывали для себя страну. Больше всего мне запомнилось, как мы вместе с другими доморощенными поэтами сидели в какой-то забегаловке в Варнсдорфе и смотрели чемпионат Европы по футболу[36]. Чехия играла в тот день с Нидерландами, мы проигрывали ноль-два, но Коллер, Барош и, наконец, Шмицер благодаря Поборски, который не пожадничал и отдал пас, в итоге вывели нас вперед – 3:2. Ладно, это я отвлекся. Суть в том, что тогда я впервые в жизни по уши влюбился, а еще обрел старшую наперсницу, с которой мог советоваться, и близкого друга, который переживал то же, что и я. И обо всех этих отношениях я писал так, что пар из ушей валил. В универе-то меня отпустило, но этот решающий выпускной год все-таки оставил неизгладимый отпечаток. Собственно, даже не год, а почти два года – наша история продолжалась и после школы, просто в памяти все уже немного слиплось. И знаешь, что смешно?
– А с какой это стати парень за тобой все время на меня пялится?
Я обернулся, но не понял, кого Нина имела в виду: за соседним столом сидела целая компания.
– Хочешь, местами поменяемся? Пусть он на меня смотрит.
– Так что смешно-то?
– Смешно, что в итоге интимные отношения сложились только между мной и второй Евой.
– Погоди, это с рыжей, что ли?
– Ну да. Не Брно, 60200, а прямо “Беверли-Хиллз, 90210”.
– Я как-то пропустила этот сериал.
– Серьезно? А как же Брендон? Дилан? Ладно, неважно. Короче, летом мы с Евой поехали работать в лесной лагерь для детей с ограниченными возможностями. Катались с ними на лошадях для развития мышечной активности, мыли, переворачивали во сне с одного бока на другой, устраивали викторины, маскарад и вообще чувствовали себя настолько полезными и взрослыми, что совсем потеряли над собой контроль. Как-то после ужина мы сидели в тамошнем полутемном спортзале, слушали магнитофон и вдруг начали обниматься. В общем, в Брно мы вернулись с кучей друзей-колясочников и нечистой совестью. Две недели мы скрывали правду, но потом все-таки признались. Петр выслушал эту новость с достоинством – в отличие от другой Евы. Я же говорил, что они были лучшими подругами, сидели за одной партой – а тут такое.
– Это ведь как в “Беверли-Хиллз”, да?
– Точно. Все со всеми, кроме Брендона и Бренды. Они были брат и сестра, поэтому если и спали друг с другом, то разве что за кадром. Только вот мы с первой Евой в общем-то так и не стали парой. Я, наверное, не слишком понятно об этом рассказал. У нас все как-то не складывалось – Ева меня избегала, встречалась с другими… Может, ее ко мне не влекло физически, но главное, она вечно была по уши в своих заботах. Так что хватало ее только на себя. К тому же у нее еще и отец нарисовался и стал требовать к себе внимания: с Евиной матерью он давным-давно развелся, а теперь вздумал вдруг обсуждать с дочерью своих любовниц, которые с каждым разом оказывались все моложе. Он был психологом, представляешь? Короче, я несколько лет провел в отношениях с девушкой, с которой даже не встречался, а в том возрасте так дальше продолжаться не могло.
– Без грехопадения Евы? – засмеялась Нина и взяла в рот вишенку из коктейля.
Казалось, ее забавляют мои любовные переживания.
– Ну да, – ответил я. – А вторая Ева все время была поблизости, и, в отличие от первой, с ней вполне можно было жить. Не то чтобы она была более доступная, скорее более обыкновенная. Обыкновенная красивая, умная и чуткая девушка – впрочем, вряд ли тут годится слово “обыкновенная”. Конечно, у нее тоже были свои тараканы в голове, за ней, к примеру, водилась склонность к саморазрушению, но в юности же это нормально? В общем, первая Ева взбесилась и какое-то время со своей подругой вообще не разговаривала, зато ко мне стала намного внимательнее. Мы и раньше ходили, держась за руки или обнявшись, все время прижимались друг к другу, но дальше этого дело не шло. А тут вдруг начали неожиданно целоваться прямо посреди чайной “Фледа”. Так что у меня стало сразу две Евы, светленькая и рыжая.
– Уфф! – выдохнула Нина.
– Уфф? Скорее “вау”. Впрочем, первой Еве все это быстро наскучило, наверное, ей просто хотелось удостовериться, что я побегу за ней, как только она меня поманит. А вторая Ева страдала, хотя, в общем-то, не была ни в чем виновата. Я очень хорошо помню, как однажды она остановилась на зебре возле Лужанок и со слезами на глазах принялась допытываться, почему это именно она всегда оказывается крайней и что я вообще о себе думаю. Мы вполне счастливо прожили вместе еще год, но в итоге все равно разошлись. Даже не помню почему. Странно. Почему же, собственно, мы расстались? Наверное, из-за первой Евы, пусть и не в прямом смысле.
– А что было с учительницей и с этим твоим другом?
– Мирка спустя пару лет ушла преподавать в университет. Думаю, ее муж пронюхал о нашей переписке и устроил скандал, хотя все было абсолютно невинно. Как бы то ни было, она вернула мне бумажный пакет, туго набитый моими письмами. Я тогда почувствовал себя задетым, но Мирка, видимо, просто не смогла выбросить их или сжечь. По-моему, на нее тогда слишком много всего навалилось, так что она не справилась и в какой-то момент от всех нас отстранилась.
– А твой друг?
– Петр? Он единственный ведет нормальную жизнь. Женился, купил квартиру, завел детей, иногда мы вместе ходим на теннис.
– Он что-то пишет?
– Насколько я знаю, книжки по трудовому праву, статьи и изредка стихотворные поздравления. Это был бурный период, и каждый из нас его преодолел по-своему. Давненько я не вспоминал те времена. Такое ощущение, что достаешь из-под кровати коробку, а в ней – целая жизнь. Собственно, об этом моя первая книжка[37], я про нее тоже почти забыл. Сборник стихов… Ева его очень удачно проиллюстрировала.
– Ева – которая?
– Вторая, с рыжими волосами. Потом она их, кстати, обрезала. Наверное, это худшее мое воспоминание. Ева меня предупредила, я знал, что она придет совсем коротко подстриженная, но не ожидал, что свои великолепные медные волосы, которые озаряли всю округу, она вытащит из пакета. И теперь они лежали в руках этой грустной новобранки, как шкура мертвого зверька… Я же говорил, что каждый из нас преодолел это время по-своему – перерос его, но и утратил что-то важное. Ева принесла в жертву волосы, венец собственной юности, я поступился своей неприкасаемостью – не знаю, как это назвать точнее… Мирка, наверное, подрастеряла свою восторженность. Слушай, кажется, нам надо еще выпить.
Мы снова заказали по коктейлю, и Нина спросила:
– А ты никогда не хотел об этом написать? Получился бы неплохой роман воспитания. Только одну из Ев придется назвать по-другому, иначе возникнет неразбериха.
– Неразбериха и так возникала, – ответил я. – Не знаю, как-то в голову не приходило. И потом: ведь мне бы пришлось вплавить нас всех в прозрачный янтарь, иначе вышло бы совсем не то. Да и не пишу я никогда о реальных событиях. Ну то есть, конечно, все, о чем пишешь, в какой-то степени реально. Я имею в виду, что не пишу о личном.
– Но разве не все, о чем ты пишешь, в какой-то степени личное?
– Да, конечно. И реальное, и личное. Проще говоря, я не пишу о тех, кого знаю.
– А почему?
Я пожал плечами.
– Можно привести целых пять причин, почему с художественной точки зрения это неблагодарное занятие. Но на самом деле – я попросту стесняюсь. К тому же, хотя ты и думаешь, что история твоей жизни неповторима, другим она кажется ничем не примечательной.
– Гм, за это можно выпить.
– За что именно?
– За жизнь, которая неповторима.
Час спустя мы выбрались из полуподвального карибского рая на улицу, где уже стемнело и похолодало. Мы сделали небольшой крюк, чтобы немного проветриться, и вернулись на площадь со статуей святого Флориана. Прожектор, установленный на крыше Нининого дома, освещал купол костела Святого Михаила. В конус этого света попадала и печная труба вместе с дымом, который ветром относило в сторону, так что крыша, казалось, служила съемочной площадкой для какого-нибудь киноэпизода, скажем, для сцены приземления Бэтмена.
Дома мы направились прямиком в ванную. Вместе почистили зубы, забрызгав зеркало белыми капельками пасты, и заспорили о том, кто из нас такой свинтус. Вдруг из комнаты Нины донеслось по-словацки: “Эй, можно потише? Спать не даете!” Мы замерли.
– Она что, не уехала? – спросил я шепотом.
Нина, оторвав взгляд от моего отражения в зеркале, посмотрела мне прямо в глаза.
– Я ее придушу.
– Иди сюда, – сказал я, чтобы предотвратить трагедию.
Нина прижалась ко мне, и я, как обычно, сразу же ощутил ее грудь. Я поцеловал ее в шею и постепенно начал спускаться губами все ниже. Нина успела запереть дверь ванной, прежде чем я усадил ее на батарею и кончил дело ртом.
– Пойдем спать к Итке? – спросил я потом.
– Наверное, – вздохнула Нина. – Подожди, я возьму подушки и одеяло.
Она натянула трусики, отперла дверь, зажгла большой свет и громко спросила:
– Значит, ты не уехала?
– На поезд опоздала, поеду завтра, – сонным голосом ответила словачка. – Выключи свет, будь добра.
– В следующий раз хотя бы эсэмэску пришли, поняла? – крикнула Нина и стукнула кулаком по подушке соседки.
Словачка в недоумении приподнялась на локте и произнесла таким тоном, каким женщины общаются исключительно между собой:
– Что, потрахаться не получилось?
Нет, получилось. В ту ночь на Иткиной кровати, в самом сердце резервации молодых католичек, мы впервые занимались любовью. Уже в полусне я проник в нее, в Нину, нас обоих охватила сладостная нега, и я быстро кончил.
– Ты мой каштанчик, – произнесла Нина.
Вышло, конечно, не ахти, но уже на следующий день мы занимались любовью нормально, то есть дольше, чем полминуты.
Получить полную версию книги можно по ссылке - Здесь
| Предыдущая страница | Следующая страница |
|
